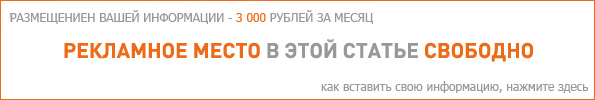Cутра в понедельник Каюмский почувствовал недомогание.
Пощупал себя, потянулся, подрыгал ногами — вроде ничего не болит.
И понял — недомогание чисто душевное.
Там, глубоко внутри, тяжелым камнем лежала глухая тоска.
Ничего ему не хотелось: ни вставать, ни есть, ни выходить из дому.
Лениво дожевывая бутерброд с затвердевшим сыром, он скреб в затылке, кряхтел, медленно думал: «Что со мной? Заела холостяцкая жизнь? Так семейная, она ведь не лучше, пожалуй».
Целый день он слонялся по комнате, брал и бросал тут же книгу, включал и выключал телевизор, но тоска зеленая крепко держала его за горло, и он наконец решительно натянул пальто, нахлобучил шапку.
— Пойду пройдусь, — сообщил сам себе. — А по дороге возьму вот и загляну к Шумаевым. Давно не общались, нельзя же так в самом деле!
Он уже и дверь открыл и за порог шагнул, но вернулся, не раздеваясь, сел за стул, сказал в пустоту:
— Куда это я? Зачем? Ведь заранее знаю, как все будет…
Запахивая халат на дряблой груди, закудахчет Шумаева. Потащит его чуть не силком к шахматной доске пропахший насквозь табаком сам хозяин и будет мучить задачей, в которой оба ни бельмеса не понимают. Явятся затем молодые с младенцем в коляске, и все станут, притопывая и прихлопывая, громко вопить: Агу-гу, агу-гу!
Будешь плакать — убегу!
— Нет, не выдержу, убегу, — устало вздохнул Каюмский и встрепенулся: — А может, в кино? Тут недалеко, через дорогу.
И он выскочил на улицу, сгоряча даже перебежал ее, глянул на афишу, на расклеенные в витрине фотографии и снова сник, заскучал.
— Все уже знаю, что там произойдет, — усмехнулся он. — И кто в кого стрелять будет. И кто кого изловит. И даже кто кого полюбит, без труда догадаться смогу.
Ради этого два с половиной часа в темном, душном зале? Да я лучше посплю!..
На другой день Каюмский проснулся не только с тоской, но и со страхом душевным: «Что-то сдвинулось там, внутри, — размышлял он. — Надо срочно поставить на место, иначе…»
Он поплелся к врачу, в поликлинику.
И вошел уже, и заглянул было в окошко регистратуры, как вдруг словно кто-то невидимый шепнул ему прямо на ухо:
— Слушай, к чему ты затеял этот визит?
Известно ведь, что тебя ожидает. Холодное прикосновение стетоскопа. Равнодушное, стандартное пожелание «Гуляйте больше, дышите глубже». Усердный скрип пера по бумаге…
— Не хочу дышать глубже! — сказал в окошко оторопевшей регистраторше Каюмский и ушел домой.
—Вдох — выдох, вдох—выдох, и так всю жизнь одно и то же, одно и то же! — бормотал он, слоняясь по комнате. — Не желаю я, надоело! — взвизгнул Каюмский, лихорадочно пересчитывая таблетки снотворного. — Сколько их надо? Двадцать, тридцать? Вот, хватит! Ну, Каюмский…
И он отчетливо представил себе, как все будет.
Увидел себя — неподвижного, воскового, обложенного куцей зеленью, ядовито подумал: «Поскупились». Различил тихое всхлипывание Шумаевой, усмехнулся: «Притворство». Услышал скорбный голос ее супруга: «Сегодня мы… всеми нами любимого… замечательного человека… прилежного работника…»
— Какое вранье! — расхохотался Каюмский и тут же подумал: «Господи, и здесь все ужасно неинтересно, все известно заранее».
Он повторил вслух:
— Прилежного работника… Как же, как же: вот уже почти два дня прогулял! А что будет за это? — внезапно забеспокоился Каюмский. — Ох, неизвестно!
И, сгорая от тревожного любопытства, он побежал на работу.
Ю. ЗОЛОТАРЕВ